
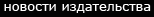    |
Драмы
Хроники
БЫЛОЕ
«Быть всю жизнь здоровым противоестественно…»
Топоров Адриан
Зоил сермяжный и посконный
Бахарева Мария
По Садовому кольцу
ДУМЫ
Кагарлицкий Борис
Cчет на миллионы
Долгинова Евгения
Несвятая простота
ОБРАЗЫ
Ипполитов Аркадий
Ожидатели Августа
Воденников Дмитрий
О счастье
Харитонов Михаил
Кассандра
Данилов Дмитрий
Пузыри бытия
Парамонов Борис
Шансон рюсс
ЛИЦА
Кашин Олег
«Настоящий диссидент, только русский»
ГРАЖДАНСТВО
Долгинова Евгения
Похожие на домашних
Толстая Наталья
Дар Круковского
ВОИНСТВО
Храмчихин Александр
Непотопляемый
МЕЩАНСТВО
Пищикова Евгения
Очередь
ХУДОЖЕСТВО
Проскурин Олег
Посмертное братство
Быков Дмитрий
Могу
| БЫЛОЕ Первая мировая война | ||
| 3 августа 2007 года | ||
Калининград. Удовольствие для избранных
I.
Трудно поверить, но в Калининграде нет ни одного кафе, пивного бара или ресторана, который специализировался бы на немецкой кухне. То есть вообще ни одного. Хотя, казалось бы, именно здесь им самое место — среди брусчатки, старых кирх и мрачных толстобоких административных зданий, сохранившихся со времен Третьего рейха.
Но не тут-то было. Большая часть специализированных общепитовских учреждений — русские и даже какие-то русопятые: с самодельным белесым кваском, грибочками под водочку, щекастыми кассиршами в цветастых сарафанах, деревянными тележными колесами и прочей разлюли-малиной. Есть заведения итальянские, французские, литовские, японские, китайские — да всякие. Немецких — нет.
Разве что в нескольких десятках километров, в Светлогорске, делают так называемые кенигсбергские клопсы. В самом дорогом ресторане «Зеештерн» — и в самом дешевом кафе «Ветерок». И больше ничего немецкого там не найдешь. Выходит, что и в Светлогорске нет немецкой кухни. Хотя есть русская, польская, корейская, армянская и другие.
В чем здесь дело? Жители Калининграда (да и области) боятся нарушить какое-то неописуемо зыбкое равновесие. Действительно, а вдруг откроешь ресторанчик с двадцатью сортами пива, десятью сортами колбасы, со всяческими рульками, тушеными капустами, полуметровыми сардельками, шнапсами, самодельными горчицами на всякий вкус да назовешь его не в добрый час «Фрау Мартой» или «Швайном» — и что-то невидимое и непостижимое нарушится? И застучат по брусчатке офицерские сапоги, и зазву-
чат повсюду резкие немецкоязычные возгласы — шнеля-шнеля, аусвайс, хенде хох.
Думают: пусть тогда уж в русском городе Калининграде русские официантки ставят перед русскими клиентами тарелки с заливными, расстегаями, грибочками и холодцами?
Нет. Все, конечно же, не совсем так.
II.
Я ужинаю в ресторане «Особенности национальной охоты». Имеется в виду, ясное дело, русская национальная охота — и по ассоциации с небезызвестными фильмами, и по интерьеру, и по ассортименту.
Официантка спрашивает, все ли мне понравилось. И шепчет заговорщицки:
— Приходите к нам на той неделе. Будут барсуки.
Что ж, барсуки так барсуки. Пусть будут. Здесь вообще-то и без них все замечательно. Я заказал, например, строганину из страусов с каперсами. По жанру — самое что ни на есть карпаччо. Но не назовешь же этим словом блюдо в русском ресторане.
Кроме того, в меню были обнаружены французские голубые сыры, салат из авокадо, креветок, дыни и хамона, стейк в соусе «Рокфор» и еще много интересного.
И сало по-славянски. Ну да, по-славянски. А как еще? Кто еще кроме славян ест сырой свиной жир?
В Москве подобное воспринималось бы как безграмотный, жалкий лубок. А здесь — нет. Спасибо огромное, все очень вкусно. Страусы как никогда удались. Пока-пока, в ожидании незабываемых встреч с барсуками.
III.
Калининград — это в первую очередь не люди, не традиции, а территория. Он, кстати, и Германией-то толком не был; существовал как некая загадочная вещь в себе. И в этом смысле связь времен после войны не прерывалась.
Кенигсбержец (а точнее, кенигсбергер) все время бросал вызов чопорным и гладеньким, живущим по уставу немцам. Можно сказать, презирал уклад немецкой жизни. Денис Иванович Фонвизин, оказавшись тут в 1784 году, был просто поражен. «Тридцатого пробыли мы в Кенигсберге. Я осматривал город, в который от роду моего приезжаю в четвертый раз. Хотя я им и никогда не прельщался, однако в нынешний приезд показался он мне еще мрачнее. Улицы узкие, дома высокие, набиты немцами, у которых рожи по аршину. Всего же больше не понравилось мне их обыкновение: ввечеру в восемь часов садятся ужинать и ввечеру же в восемь часов вывозят нечистоту из города. Сей обычай дает ясное понятие как об обонянии, так и о вкусе кенигсбергских жителей. Тридцать первого в девять часов поутру вынес нас Господь из Кенигсберга».
Вас. И. Немирович-Данченко — тот вообще не увидел разницы между каким-нибудь уездным русским городом и Кенигсбергом. «Кто попадает в Кенигсберг не из России, а из Германии, тому он покажется совсем не немецким городом. Жалкие, мелкие домишки отдаленных улиц, грязь, слоями лежащая на самых главных, неопрятность жителей, массы славянских типов и множество евреев, встречающихся повсюду, дороговизна гостиниц и отсутствие всякого комфорта в них переносят вас куда хотите, в Россию, Литву, Польшу, но никак не в опрятную Германию. Какие-то допотопные, мохом поросшие извозчики, подобных которым вы встретите только в Вильне, дребезжащие коляски, нищие на улицах, отсутствие всякого порядка и обилие кабаков на каждом шагу, запутанные лабиринты дальних переулков с бушующими пьяными, приземистые землянки, даже чуть ли не рядом с историческими дворцами и башнями, — характеризуют этот важный порт. Почему Кенигсберг считается в Пруссии вторым после Берлина городом — я не понимаю. Еще в прошлом так, но теперь, какое же сравнение хотя бы с Кельном? Что касается до меня, то я более противного места в Германии не знаю. На рубеже двух государств Кенигсберг успел соединить у себя пороки того и другого, не усвоив их достоинств».
Что поделаешь. Не повезло этим двум путешественникам. Не про них построен город Кенигсберг. Грязные улицы, аршинные немецкие физиономии, какие-то землянки. Прочь! Ноги моей больше не будет в вашем Кенигсберге!
Но если человек в Кенигсберг-Калининград влюбляется, то навсегда и без оглядки. Вот, к примеру, впечатления Вильгельма Кюхельбекера. «Теперь мы в Кенигсберге. Поутру осматривали город. Я уже видел несколько готических городов, но ни один не поразил меня до такой степени. Переезжая через мост, я ахнул: река Прегель по обеим сторонам обсажена узенькими высокими домами (между ними есть 8-этажные), которые стоят к берегу не лицом, а боком, снабжены огромнейшими кровлями и тем получают вид каких-то башен китайской или Бог знает какой постройки! Улицы красивы и некоторые довольно широки: большие крыльца придают городу веселую, южную физиономию. Меня восхитили итальянские тополи, которые я здесь увидел в первый раз: не знаю красивее дерева».
А русский литератор и чиновник Андрей Болотов прощался с Кенигсбергом, как с любимым человеком. «Не могу никак изобразить, с какими чувствованиями выезжал я из сего города и как распращивался со всеми улицами, по которым я ехал, и со всеми знакомыми себе местами. Вся внутренность души моей преисполнена была некими нежными чувствами, и я так был всем тем растроган, что едва успевал утирать слезы, текущие против хотения из глаз моих... Как скоро отъехал я версты две от города и взъехал на знакомый мне холм, то, предчувствуя, что мне его никогда уже более не видать, восхотелось мне еще раз на него хорошенько насмотреться. Я велел слуге своему остановиться и, привстав в кибитке своей, с целую четверть часа смотрел на него с чувствиями нежности, любви и благодарности. Я пробегал мыслями все время пребывания моего в нем, воспоминал все приятные и веселые дни, препровожденные в оном, исчислял все пользы, приобретенные в нем, и, беседуя с ним душевно, молча говорил: “Прости, милый и любезный град, и прости навеки! Никогда, как думать надобно, не увижу я уже тебя боле! Небо да сохранит тебя от всех зол, могущих случиться над тобою, и да излиет на тебя свои милости и щедроты. Ты был мне полезен в моей жизни, ты подарил меня сокровищами бесценными, в стенах твоих сделался я человеком и спознал самого себя, спознал мир и все главнейшее в нем, а что всего важнее — спознал творца моего, его святой закон и стезю, ведущую к счастию и блаженству истинному... Слеза горячая, текущая теперь из очей моих, есть жертва благодарности моей за вся и все, полученное от тебя! Прости навеки!”»
Кстати, в это время Кенигсберг был русским городом, присоединенным к России в процессе Семилетней войны. А господин Болотов служил в канцелярии губернатора Пруссии Николая Андреевича Корфа.
IV.
Кенигсбержцы веками жили жизнью обывателей — торгового, ремесленного и ученого. Да, ученый здесь тоже считался обывателем: кенигсбергский университет Альбертина открылся в 1544 году, и к нему все давным-давно привыкли. О студентах отзывались фамильярно: «Кенигсбергские студенты — это нечто среднее между буршами и молодыми людьми из торгового или вообще делового сословия. Обычная их одежда — грубая шерстяная куртка с меховым воротником, плотно охватывающим шею, и меховая шапка. Они часто дерутся и пьют. Время от времени пьянство принимает ужасающие масштабы... При этом добродушие — отличительная черта тамошних студентов».
А как-то раз на медицинском факультете университета хирург Даниэль Швабе вынул из желудка местного крестьянина Андреаса Грюнхайде нож длиной семнадцать с половиной сантиметров. Глотателя, чтобы не рыпался, привязали к доске, руками нащупали нож, очертили это место углем... раз, два, три — готово дело!
Извлеченный нож в качестве сувенира был вручен польскому королю Владиславу IV.
Кант для кенигсбержцев был, конечно, никаким не великим философом, а городским персонажем, чудаком — но тоже каким-то заурядным и простым. Знали его как любителя долгих прогулок (в основном вдоль берега реки), ненавистника пива (Кант уверял, что пиво — это не напиток, а пища скверного качества) и хлебосола, постоянно зазывавшего к себе на обед гостей (за столом должны присутствовать от трех до девяти человек — не меньше числа граций, но не больше числа муз).
Кант одно время был российским подданным, опять-таки благодаря Семилетней войне. Между прочим, писал матушке Елизавете Петровне прошение: хотел занять теплое место в кенигсбергском университете. «Пресветлейшая, великодержавная императрица, самодержица всея России, всемилостивейшая государыня и великая жена! Со смертью покойного друга профессора Кипке кафедра ординарного профессора логики и метафизики в нашей Кенигсбергской академии сделались свободною. Эти обе науки были доселе предметом особенно внимательного изучения с моей стороны». И в завершение послания: «Готов умереть в моей глубочайшей преданности Вашего Императорского Величества наиверноподданнейший раб Иммануил Кант».
Подхалимаж, однако, не прошел. Должностью Канта обнесли. Тем не менее, жизнь Кенигсберга под русской короной текла так же мирно и благостно, как до вторжения России. Россияне сами удивлялись этому. Граф Воронцов писал: «В Кенигсберге много дворян, живущих открыто, как, например, Финки, Денгофы и др. Все они казались спокойными и довольными нашим владычеством».
Если позволяли деньги, кенигсбержец шел пить красное вино в ресторан «Блютгерихт», располагавшийся в Орденском замке (на этом месте в наши дни стоит обманка — аккуратненькое снаружи и совершенно пустое внутри многоэтажное здание). Громадные винные бочки с краниками, длинные столы, прекрасные закуски под густое красное вино располагали к отдыху.
Если денег не хватало, пили клейкое черное пиво в кабачках попроще.
Первого января устраивали праздник Колбасы. Каждая кенигсбергская колбасня специально к этому событию готовила громадную длинную колбасищу. Эти колбасы носили по улицам города — на каждое изделие иной раз приходилось по нескольку десятков человек. Нагулявшись и охолодав, колбасники отправлялись в тот же «Блютгерихт» (деньги откладывались заранее) или многочисленные другие заведения — поедать свои праздничные шедевры под пиво и вино.
В теплое же время года жизнь бурлила вокруг Замкового пруда. П. И. Сумароков писал: «Веселящиеся обитатели собираются тут в трактиры, раздаются по воде звуки флейт, фаготов, учреждаются игры, разъезжают шлюпки, и сие место есть превосходнейшее в Кенигсберге».
Кстати, наши соотечественники частенько называли Кенигсберг немецкой Москвой. Подразумевая, что Берлин — это как Питер, деловая и рациональная столица. А Кенигсберг — территория, специально отведенная для всякого рода причуд и необязательностей.
И правда, разглядеть в Кенигсберге некую немецкую традицию можно разве что в заметках Сумарокова. Остальное же — чистейшей воды самобытность и чудачество. Никогда на земле не было Кенигсберга немецкого. Просто стоял на Балтике ганзейский город, способный очаровать, охмурить, околдовать заезжего туриста своей непохожестью ни на что.
Из кенигсбергского дневника графа Федора Ростопчина: «Меня сейчас испугали. Я сидел, писал и не заметил, как взошла женщина колоссального роста, с огненными волосами; она подошла ко мне, поцеловала меня в плечо и выпросила два гроша. Это была служанка при кухне».
Что к этому добавить? Ровным счетом нечего.
V.
После войны население Кенигсберга изменилось до неузнаваемости. Но лишь на первый взгляд. На смену отважным и романтичным торговцам явились такие же отважные и романтичные советские военнослужащие с семьями, а также еще более отважный и романтичный «деклассированный элемент» — те, кому было нечего терять, охотно поддавались агитаторам и составляли первую волну переселенцев.
Реку Прегель переименовали в Преголю — так казалось более по-русски. Штайндам — в Ленинский проспект. В Альбертине приняли дела преподаватели марксизма-ленинизма. Одна мифология сменилась другой. Памятник королю Вильгельму был снесен. На памятнике Шиллеру на всякий случай написали «Не трогать! Памятник культуры». Вроде бы пустили трамваи — только не назначили им остановки. Трамваи ездили, как сами захотят.
Словом, налаживали новый быт, как могли. Рапортовали на большую землю: «Бескоровность среди переселенцев 1949 года ликвидирована, за исключением тех семей, которые имели скот, но по разным причинам сами продали, прирезали или не имеют на руках справки о бескоровности».
В город пришел новый сюрреализм, прекрасно показанный Александром Кайдановским в фильме «Жена керосинщика».
А затем — девяностые годы, за ними двухтысячные. Тоже, в общем, довольно смешные.
VI.
Считается, что нынешние калининградцы держатся за немецкое прошлое своего города, хватаются за него, пытаются на нем подняться над основной частью России. Нет, это не так. Они держатся за свою нынешнюю самобытность. Им нравятся «последние солдаты рейха» — деревья, посаженные вдоль дорог при немцах. Они гордятся тем, что у трамваев здешних рельсы уже, чем в Москве или Самаре. Они открывают храмы в бывших кирхах — ясное дело, православные храмы. Ездят исключительно на иномарках. Пьют не виданные в городе Москве литовские и белорусские напитки. На выходные ездят отдохнуть в польские Миколайки, в аквапарк. Устраивают странные музеи, например, музей почтовых ящиков — фасад простого дома, на котором эти ящики и вывешены.
Словом, отличаются.
Они держатся за это так же, как довоенные кенигсбержцы держались за свой праздник Колбасы, «Блютгерихт», чудика Имманула Канта и нож, подаренный властителю польских земель. А туристы именно за это и влюбляются в Калининград, как некогда влюблялись Болотов и Кюхельбекер.
Была бы потребность в неметчине — наверняка каждый второй ресторан был бы немецким.
Город, однако, в этом совсем не нуждается. Дух Калининграда — не собака, а кот. Он привязан не к людям, а к местности. Ему все равно, коммунисты, бюргеры или Георгий Боос.
Версия для печати
Леонтьев Ярослав
Топоров Адриан
Чарный Семен
Азольский Анатолий
Андреева Анна
Аммосов Юрий
Арпишкин Юрий
Астров Андрей
Бахарева Мария
Бессуднов Алексей
Бойко Андрей
Болмат Сергей
Боссарт Алла
Брисенко Дмитрий
Бутрин Дмитрий
Быков Дмитрий
Веселая Елена
Воденников Дмитрий
Володин Алексей
Волохов Михаил
Газарян Карен
Гамалов Андрей
Галковский Дмитрий
Глущенко Ирина
Говор Елена
Горелов Денис
Громов Андрей
Губин Дмитрий
Гурфинкель Юрий
Данилов Дмитрий
Делягин Михаил
Дмитриев-Арбатский Сергей
Долгинова Евгения
Дорожкин Эдуард
Дудинский Игорь
Еременко Алексей
Жарков Василий
Йозефавичус Геннадий
Ипполитов Аркадий
Кашин Олег
Кабанова Ольга
Кагарлицкий Борис
Кантор Максим
Караулов Игорь
Клименко Евгений
Ковалев Андрей
Корк Бертольд
Красовский Антон
Крижевский Алексей
Кузьминская Анна
Кузьминский Борис
Куприянов Борис
Лазутин Леонид
Левина Анна
Липницкий Александр
Лукьянова Ирина
Мальгин Андрей
Мальцев Игорь
Маслова Лидия
Мелихов Александр
Милов Евгений
Митрофанов Алексей
Михайлова Ольга
Михин Михаил
Можаев Александр
Морозов Александр
Москвина Татьяна
Мухина Антонина
Новикова Мариам
Носов Сергей
Ольшанский Дмитрий
Павлов Валерий
Парамонов Борис
Пахмутова Мария
Пирогов Лев
Пищикова Евгения
Поляков Дмитрий
Порошин Игорь
Покоева Ирина
Прилепин Захар
Проскурин Олег
Прусс Ирина
Пряников Павел
Пыхова Наталья
Русанов Александр
Сапрыкин Юрий
Сараскина Людмила
Семеляк Максим
Смирнов-Греч Глеб
Степанова Мария
Сусленков Виталий
Сырникова Людмила
Толстая Наталья
Толстая Татьяна
Толстой Иван
Тимофеевский Александр
Тыкулов Денис
Фрумкина Ревекка
Харитонов Михаил
Храмчихин Александр
Черноморский Павел
Чеховская Анастасия
Чугунова Елена
Чудакова Мариэтта
Шадронов Вячеслав
Шалимов Александр
Шелин Сергей
Шерга Екатерина
Янышев Санджар
© 2007—2009 «Русская жизнь» |
|
|