
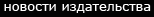    |
Драмы
Хроники
БЫЛОЕ
«Быть всю жизнь здоровым противоестественно…»
Топоров Адриан
Зоил сермяжный и посконный
Бахарева Мария
По Садовому кольцу
ДУМЫ
Кагарлицкий Борис
Cчет на миллионы
Долгинова Евгения
Несвятая простота
ОБРАЗЫ
Ипполитов Аркадий
Ожидатели Августа
Воденников Дмитрий
О счастье
Харитонов Михаил
Кассандра
Данилов Дмитрий
Пузыри бытия
Парамонов Борис
Шансон рюсс
ЛИЦА
Кашин Олег
«Настоящий диссидент, только русский»
ГРАЖДАНСТВО
Долгинова Евгения
Похожие на домашних
Толстая Наталья
Дар Круковского
ВОИНСТВО
Храмчихин Александр
Непотопляемый
МЕЩАНСТВО
Пищикова Евгения
Очередь
ХУДОЖЕСТВО
Проскурин Олег
Посмертное братство
Быков Дмитрий
Могу
| БЫЛОЕ Земство | ||
| 24 апреля 2008 года | ||
Будни земской больницы
Впервые слово «земство» прозвучало при Иване Грозном. Нет, его, конечно же, и раньше знали — просто именно тогда оно сделалось популярным. Не удивительно — ведь вся Россия разделилась на две части — опричнину и земщину. Опричники, как удостоенные особой чести, принесли присягу: вовсе не общаться с «земскими». Их нарядили в черные одежды, весьма напоминающие монашеские рясы. Выдали знаки отличия — по метле и по собачьей голове. Первое — чтобы выметать крамолу, второе — чтоб ее же выгрызать. Обязали их являться к общей трапезе, сопровождаемой молитвами.
Словом, получилось что-то вроде монашеского ордена.
Правда, жизнь опричного «монастыря» сопровождалась пьянством, оргиями и, главное, бесконечными убийствами.
Использовалось это слово и позднее. Василий Шуйский, например, хвалил ратников Ярославля в 1609 году: «Писали к нам из Ярославля воеводы наши князь Сила Гагарин, да Никита Вышеславцов, да Евсей Резанов, что вы, помня Бога и нашу православную крестьянскую веру и свое обещанье, нам служите, и о наших и о земских делах радеете, и промышляете, и против всех врагов креста Христова вооружаетеся, и на них бесстыдно приходите, и на многих боях многих воров и литовских людей побивали… И мы, слыша о том, со всеми нашими людьми обрадовались и всемилостивому в Троице славимому Богу милости просим, чтоб нам вас велел Бог здоровых видети и против вашей службы вас пожаловати нашим великим жалованьем».
«О земских делах радеть» было похвальным занятием.
Однако более-менее привычный для нас смысл слово «земство» приобрело только в 1864 году, когда после отмены крепостного права были введены так называемые земские учреждения — выборные органы местного самоуправления. В задачу их входило радение о земских делах, о жизни российской глубинки. Тогда же начал вырабатываться и весьма своеобразный тип земского деятеля — в первую очередь, конечно же, врача.
***
Классическое воплощение земского доктора, как известно, — Антон Павлович Чехов. Неудивительно: ведь у него имелось все необходимое для этого — медицинское образование, пенсне, бородка, легочный процесс. Да и произведения — соответствующие. Одна «Хирургия» чего стоит.
Антон Павлович и вправду был причастен к этой деятельности. В 1884 году по окончании университета Чехов был распределен в Звенигород, на должность земского врача. Он обитал в уютненьком зеленом домике. На этом домике сегодня две мемориальные доски. На одной написано, что Антон Павлович здесь жил, а на другой, разумеется, — что здесь же он работал. Земский врач обычно принимал по месту жительства.
«В Звенигороде в самом деле хорошо», - обмолвился однажды Чехов, прогуливаясь по холмам «русской Швейцарии». Что же ему здесь нравилось, кроме и вправду живописного рельефа, колоритных кривых улиц и здорового провинциального стола? Уж не работа ли?
Похоже, не она. Чехов вел в Звенигороде самую что ни на есть светскую жизнь. Его брат Михаил Павлович, тоже случившийся в Звенигороде, вспоминал: «Когда наступал вечер, мы с братом шли в гости к очень гостеприимной местной дачнице Л. В. Гамбурцевой, у которой были хорошенькие дочки, и можно было послушать музыку и пение и потанцевать».
По звенигородским впечатлениям писатель сочинил «На вскрытии», «Мертвое тело» и «Сирену». Но, хотя первый и второй рассказы все-таки имели отношение к его профессии, то третий — совершенно о другом: «Ну-с, перед кулебякой выпить… Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтобы соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот эдак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком».
Хорошие рекомендации, явно навеянные дачницей Л. Гамбурцевой и ее гостеприимством.
Правда, случались и осечки. Как-то раз компания веселых эскулапов (Антон Павлович, конечно, среди них), погуляв в окрестностях звенигородского монастыря, решила навестить коллегу, доктора Персидского, заведующего здешней больницей. Тот обрадовался, сразу же в саду накрыли стол, сервировали чай, закуски. Посидели, выпили и принялись петь хором. Репертуар, конечно, был студенческий, а потому и не особенно благонадежный. Исполнили «Дубинушку», «Укажи мне такую обитель» и что-то еще.
Вдруг появился полицейский надзиратель с протоколом. Дескать, песни подозрительного содержания, к тому же громко и на улице. Персидский возмутился — как это, на улице, ведь сад-то частный. Однако надзиратель оказался неуступчив. Как говорится, протоколу был дан ход.
И тут Персидский совершил ошибку. Вдохновленный знакомством с писателями (в первую очередь с Чеховым), он послал письмо в редакцию «Русских ведомостей». Письмо было опубликовано, однако эффекта не имело. Тогда были задействованы более надежные каналы. Один из участников спевки, М. Яковлев, пользуясь связями, попал на прием к губернатору.
Но губернатор ответил:
— Конечно, мы приняли бы сторону доктора Персидского, если бы он не напечатал своего письма в «Русских ведомостях», а теперь мы должны стать на сторону звенигородской полиции, чтобы не дать повода думать, что мы испугались «Русских ведомостей» и вообще прислушиваемся к печати.
В результате Персидский остался без места. На карьере же Антона Павловича это происшествие не отразилось.
***
Антон Павлович затем увлекся несколько иной деятельностью. Однако врачебные занятия полностью не забросил. Принимал больных, будучи дачником, — в Бабкино, в Мелихове. Просто потому, что был он человек порядочный, жалел крестьян, да и стариной тряхнуть бывала охота. Иной раз случались, разумеется, конфузы. В основном из-за того, что когда Антон Павлович отсутствовал, прием больных вел кто-нибудь из его родственников.
Однажды, например, сестра писателя Мария Павловна дала какому-то страдальцу камфорного масла — перепутала с касторовым. Потом перепугалась, разумеется, но обошлось. На следующий день крестьянин вновь пришел и стал благодарить добрую барыню:
— Ох, голубушка, спасибо тебе! Как же хорошо ты мне вчера помогла. Вот еще пришел к тебе…
А Мария Павловна слушала эту речь и думала: «А что же в таком случае ему сегодня дать?»
Семья Чехова была интеллигентная и образованная, совсем уж навредить больному не могла.
***
Большая часть крестьян, однако, относилась к земским эскулапам с настороженностью. Они больше верили священникам, гадалкам, всевозможным бабкам-ворожеям и иным специалистам того же рода. В 1860-е в городе Богородске (нынешний Ногинск Московской области) на полном серьезе обсуждалось — а не упразднить ли вообще весь этот институт земской медицинской помощи? Особенно это касалось фельдшеров — медработников без высшего образования.
Гласный земского уездного собрания Виктор Григорьевич Высотский утверждал: «Фельдшера эти, оставленные без докторского надзора, скорее приносят вред, чем пользу, потому что фельдшер в видах своих собственных интересов принимается лечить больного, стараясь его отвлечь от совета с доктором, и, разумеется, не имея точных сведений в медицине, приносит больному больше вреда, чем пользы… Не надо навязывать крестьянам докторов и фельдшеров, к которым русский крестьянин относится с крайним недоверием… Крестьяне обращаются всегда за советом или к местному священнику, или к живущему близ них помещику, или, наконец, к таким лицам, которые из благотворительных целей исключительно занимаются оказыванием медицинского пособия приходящим к ним лицам».
Высотский утверждал, что «таких лиц можно найти в разных пунктах уезда много», и предлагал именно в их распоряжение выделять медикаменты.
Страсти разыгрывались на сей счет нешуточные, но до крайностей, однако же, не доходило — бабкам-шептухам не выписывали государственных лицензий.
***
Раз на раз, что называется, не приходилось. Где-то земские врачи работали без продыху — принимали роды, ставили пиявки, удаляли зубы, промывали чирьи, починяли вывихи, и прочая, прочая. А где-то маялись, напротив, от безделья, предавались пьянству или философствованиям. Наблюдали жизнь. Делали выводы.
Череповецкий земский врач А. И. Грязнов, к примеру, написал целую диссертацию под названием «Опыт сравнительного изучения гигиенических условий крестьянского быта и медико-топография Череповецкого уезда». Результаты «Опыта» были безрадостны: «Из нашего исследования очевидно, как плохи жизненные условия населения, как ничтожна производительность его труда, и как малы средства его в борьбе против неблагоприятных жизненных условий».
А земский врач в захолустной Удмуртии Михаил Бух сообщал: «Вотяки от самой природы флегматичны. Когда заговариваешь с вотяками, они отвечают медленно, но вдумчиво. На базаре часто на вопрос, сколько стоит их товар, они, почесывая голову, отвечают угрюмо: «Не знаю». Только на вторичный вопрос уже сообщают цену, но обыкновенно ни на грош не сбавляют…
Обычно это приписывают их глуповатости. Русский крестьянин на вопрос отвечает быстро и определенно: за свой товар он назначает двойную цену и своей бойкостью производит впечатление толкового малого… При близком знакомстве с вотяками убеждаешься, что они смышлены и достаточно развиты. В поведении вотяка, сколько я наблюдал, чувствуется независимость, он не обнаруживает того раболепства, какое можно наблюдать среди русских крестьян западных губерний России».
Весьма характерные рассуждения земского деятеля — интеллигентного, наблюдательного, заботливого, погруженного в тему — но все равно отстраненного.
А где-то активисты земской медицины, напротив, проявляли невиданный энтузиазм. В частности, в земской больнице города Тамбова врач и вовсе экспериментировал над своими пациентами. Ординатор Ф. Сперанский сетовал: «Мы назначали „прославленный“ в истекшем году бородавочник (чистотел) по чайной ложке через час. Ожидаемых благоприятных результатов не получено, несмотря на продолжительное употребление его больными. Наблюдали случаи отравления, выразившиеся общей слабостью, упадком деятельности сердца и общим тоскливым настроением. Оставление приема средства быстро восстанавливало прежнее самочувствие. Доктором Олениным чистотел применялся при резке матки. Результат был также отрицательным, не только в смысле излечения, но даже и улучшения болезненного процесса».
Больные, разумеется, безропотно сносили все эти проявления докторского рвения. Более того, тамбовская больница пользовалась славой одной из лучших в русском земстве. А уж оборудование там использовалось вообще на зависть жителям столиц. Главврач этой лечебницы П. Баратынский не без гордости отчитывался: «Настоящий рентгеновский аппарат, уже третий в больнице, поставлен фирмой Saints в начале 1913 г. и обошелся в 2 900 рублей, бывший на его месте аппарат Всеобщей компании электричества как негодный снят. Настоящий аппарат, по согласному мнению работающих врачей, удовлетворяет современным научным требованиям».
Ради таких чудес прогресса можно было и поганый бородавочник стерпеть. Тем более в других земских больницах дело обстояло более чем скверно. В частности, в докладе земскому собранию города Тулы сообщалось без обиняков: «Все больничные здания до последней мелочи требуют перестройки, невозможно оставлять в них больных, так как их жизни грозит опасность от ожидаемого падения потолка и разрушения стен».
Какой уж тут рентген!
***
По мере сил земские деятели занимались профилактикой заболеваний. Ратовали о водопроводе, проводили санитарные проверки мясных лавок, инспектировали постоялые дворы. В городе Муроме земство содержало тюрьму — и самое себя критиковало: «Помещение совершенно не соответствует цели: на концах коридора помещены отхожие места — запах несется по коридорам и проникает в камеры, которые полны им, несмотря на открытые окна. Кухни совсем нет, вместо нее устроена в коридоре, недалеко от входа русская печь — в смысле экономии место это удобно, но способствует распространению дурного запаха и растаскиванию грязи».
Правда, по ходу дела, отмечало положительные сдвиги: «Арестованные были на прогулке чисто одеты, несмотря на праздничный день все трезвые. Вообще порядок, насколько он зависит от смотрителя, вполне удовлетворительный».
Правда, арестанты в таких тюрьмах были не особенно опасные, какие-то даже курьезные. Газеты города Владимира, к примеру, сообщали о таких преступниках: «Решения Городского Судьи 2-го участка города Владимира по полицейским протоколам…
Суздальская мещанка Марья Иванова Мешкова привлекалась к ответственности по 102 ст. Уст. о наказ. за то, что, очищая помойную яму, выливала нечистоты в сад, за что и приговорена к штрафу в 5 рублей с заменою, при несостоятельности, арестом в земском помещении на 2 дня«.
Или: «Суздальская мещанка Татьяна Петровна Доброхотова привлекалась к ответственности по 38 и 42 ст. о наказ. за нарушение тишины и спокойствия в пьяном виде близ казенной винной лавки № 5 и за оскорбление на словах городового Исаченко, за что и приговорена к аресту при земском помещении на 4 суток».
Душ невинных эти тати не губили.
***
Кстати, и знаменитая московская лечебница, известная под именем Канатчиковой дачи, возникла вследствие земской активности. Писатель Телешов рассказывал, что как-то раз на заседании земского губернского собрания московский городской голова Николай Алексеев неожиданно сказал:
— Если бы вы взглянули на этих страдальцев, лишенных ума, из которых многие сидят на цепях в ожидании нашей помощи, вы не стали бы рассуждать о каких-то проектируемых переписях, а прямо приступили бы к делу. Для этого нужно немедленно найти помещение и сегодня же его отопить, завтра наполнить койками, а послезавтра — больными… У вас нет коек? Я дам вам на время городские койки. У вас нет белья? Я дам вам запасное городское белье. Я сделаю все, чтобы приют открылся не далее как через десять дней.
— В десять дней ничего нельзя сделать, — возразили ему. — Наше постановление войдет в силу только через восемь дней.
— Оно войдет в силу завтра, — отрезал Алексеев. — Я ручаюсь, что постановление наше будет представлено сегодня же, сейчас же к утверждению, и завтра все будет готово.
Действительно лечебница была открыта всего-навсего за полторы недели или же Телешов преувеличивал — не важно. Если преувеличивал, то не существенно, а история Канатчиковой дачи и без Телешова изобилует легендами.
Версия для печати
Леонтьев Ярослав
Топоров Адриан
Чарный Семен
Азольский Анатолий
Андреева Анна
Аммосов Юрий
Арпишкин Юрий
Астров Андрей
Бахарева Мария
Бессуднов Алексей
Бойко Андрей
Болмат Сергей
Боссарт Алла
Брисенко Дмитрий
Бутрин Дмитрий
Быков Дмитрий
Веселая Елена
Воденников Дмитрий
Володин Алексей
Волохов Михаил
Газарян Карен
Гамалов Андрей
Галковский Дмитрий
Глущенко Ирина
Говор Елена
Горелов Денис
Громов Андрей
Губин Дмитрий
Гурфинкель Юрий
Данилов Дмитрий
Делягин Михаил
Дмитриев-Арбатский Сергей
Долгинова Евгения
Дорожкин Эдуард
Дудинский Игорь
Еременко Алексей
Жарков Василий
Йозефавичус Геннадий
Ипполитов Аркадий
Кашин Олег
Кабанова Ольга
Кагарлицкий Борис
Кантор Максим
Караулов Игорь
Клименко Евгений
Ковалев Андрей
Корк Бертольд
Красовский Антон
Крижевский Алексей
Кузьминская Анна
Кузьминский Борис
Куприянов Борис
Лазутин Леонид
Левина Анна
Липницкий Александр
Лукьянова Ирина
Мальгин Андрей
Мальцев Игорь
Маслова Лидия
Мелихов Александр
Милов Евгений
Митрофанов Алексей
Михайлова Ольга
Михин Михаил
Можаев Александр
Морозов Александр
Москвина Татьяна
Мухина Антонина
Новикова Мариам
Носов Сергей
Ольшанский Дмитрий
Павлов Валерий
Парамонов Борис
Пахмутова Мария
Пирогов Лев
Пищикова Евгения
Поляков Дмитрий
Порошин Игорь
Покоева Ирина
Прилепин Захар
Проскурин Олег
Прусс Ирина
Пряников Павел
Пыхова Наталья
Русанов Александр
Сапрыкин Юрий
Сараскина Людмила
Семеляк Максим
Смирнов-Греч Глеб
Степанова Мария
Сусленков Виталий
Сырникова Людмила
Толстая Наталья
Толстая Татьяна
Толстой Иван
Тимофеевский Александр
Тыкулов Денис
Фрумкина Ревекка
Харитонов Михаил
Храмчихин Александр
Черноморский Павел
Чеховская Анастасия
Чугунова Елена
Чудакова Мариэтта
Шадронов Вячеслав
Шалимов Александр
Шелин Сергей
Шерга Екатерина
Янышев Санджар
© 2007—2009 «Русская жизнь» |
|
Нужен Вывоз мусора? Большой выбор - вывоз мусора. |